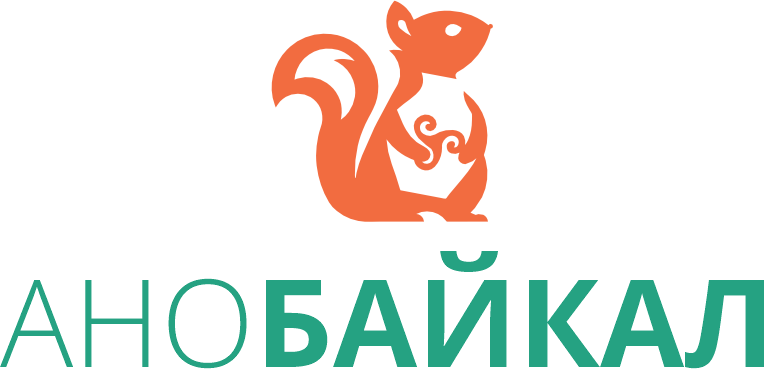Шестьдесят лет минуло с тех пор, как из-за строительства Братской ГЭС под воду ушли сотни деревень Иркутской области. В течение трех-четырех лет на дне Братского водохранилища оказались десятки тысяч дворов. И в каждом из них жили люди — со своими мечтами и стремлениями, с памятью о своем родовом месте.
Проект «Лица затопленных деревень», разработанный автономной некоммерческой организацией «Байкал», посвящен людям, которые помнят, как под воду уходили их деревеньки, села и даже города. С помощью этих людей мы воссоздаем историческую память о событиях не столь давних, но малоизвестных, а чаще всего — совсем забытых. Между тем, именно тогда мы очень часто встречаем примеры настоящего патриотизма — когда люди, ради развития своей страны, подъема экономики, готовы были пожертвовать привычным жизненным укладом, спокойной и комфортной жизнью.
Проект «Лица затопленных деревень» — это 60 историй о том, как жили люди на Старой Ангаре, как переезжали на новые места и как сложилось их жизнь потом. В этом году журналисты работали на малой родине Валентина Распутина — в населенных пунктах на берегу Ангары в Усть-Удинском и Балаганском районах. Сегодня наша публикация посвящена семье Новиковых — Любовь Ильиничне и Анатолию Егоровичу. Они рассказали, как шло затопление Бирита.
— Говорят, что Бирит переводится с бурятского как яма, — рассказывает Любовь Ильинична. — Правда это, или нет, но по ощущениям это яма и есть. Спускаешься вниз, к заливу — и сразу начинает хиус тянуть. Если в самом поселке, например, минус 40 градусов, внизу — на три градуса ниже, минус 43.
Ещё лет сто назад тут никто не жил, лишь бурятские племена хоронили в окрестностях современного Бирита своих усопших, продолжает свой рассказ Любовь Ильинична. Но примерно в 30-х годах НКВД открыл здесь зону строгого режима.
— Чем руководствовались люди, принимавшие такое решение, — непонятно, — удивляется она.
Любовь Ильинична — приезжая. Её семья из Кады, также затопленной водами Братского моря. Случилось это, когда Любовь Ильиничне был один годик, и она, конечно, ничего о Каде не помнит. Рассказывает о ней только со слов отца. А вот ее муж Анатолий Егорович — местный, биритский. Его отец работал в лагере охранником, мама — поварихой.
— Недалеко, за Метляево, был кирпичный завод, там многие заключенные работали, — вспоминает он. — Немцы, прибалты, полицаи, люди разных возрастов и национальностей — все здесь сидели.
Зону расформировали сразу после смерти Сталина, в 1953 году.
Проект «Лица затопленных деревень», разработанный автономной некоммерческой организацией «Байкал», посвящен людям, которые помнят, как под воду уходили их деревеньки, села и даже города. С помощью этих людей мы воссоздаем историческую память о событиях не столь давних, но малоизвестных, а чаще всего — совсем забытых. Между тем, именно тогда мы очень часто встречаем примеры настоящего патриотизма — когда люди, ради развития своей страны, подъема экономики, готовы были пожертвовать привычным жизненным укладом, спокойной и комфортной жизнью.
Проект «Лица затопленных деревень» — это 60 историй о том, как жили люди на Старой Ангаре, как переезжали на новые места и как сложилось их жизнь потом. В этом году журналисты работали на малой родине Валентина Распутина — в населенных пунктах на берегу Ангары в Усть-Удинском и Балаганском районах. Сегодня наша публикация посвящена семье Новиковых — Любовь Ильиничне и Анатолию Егоровичу. Они рассказали, как шло затопление Бирита.
— Говорят, что Бирит переводится с бурятского как яма, — рассказывает Любовь Ильинична. — Правда это, или нет, но по ощущениям это яма и есть. Спускаешься вниз, к заливу — и сразу начинает хиус тянуть. Если в самом поселке, например, минус 40 градусов, внизу — на три градуса ниже, минус 43.
Ещё лет сто назад тут никто не жил, лишь бурятские племена хоронили в окрестностях современного Бирита своих усопших, продолжает свой рассказ Любовь Ильинична. Но примерно в 30-х годах НКВД открыл здесь зону строгого режима.
— Чем руководствовались люди, принимавшие такое решение, — непонятно, — удивляется она.
Любовь Ильинична — приезжая. Её семья из Кады, также затопленной водами Братского моря. Случилось это, когда Любовь Ильиничне был один годик, и она, конечно, ничего о Каде не помнит. Рассказывает о ней только со слов отца. А вот ее муж Анатолий Егорович — местный, биритский. Его отец работал в лагере охранником, мама — поварихой.
— Недалеко, за Метляево, был кирпичный завод, там многие заключенные работали, — вспоминает он. — Немцы, прибалты, полицаи, люди разных возрастов и национальностей — все здесь сидели.
Зону расформировали сразу после смерти Сталина, в 1953 году.
— Когда зону закрыли — очень много людей из бывших заключенных остались здесь, в Бирите, — говорит Любовь Ильинична. — Когда уже в 80-х годах я в гараже работала, со мной трудилась женщина, Катя Кондратьева. Она была немкой. Рассказывала, как все село немцев под Ленинградом в 1941 году на баржу посадили и сюда, в лагерь, привезли.
В 1953 году на месте лагеря образовался совхоз. Место для занятий сельским хозяйством было неплохое. Речка Биритка спускалась в долину и делилась на две протоки. Получается, что в середине был остров. Там во времена существования зоны заключенные организовали небольшой огород: выращивали капусту, морковку, помидоры — в общем, самые разные овощи. Этот огород и стал основой для будущего совхоза.
— Совхоз в Бирите был непростым, — рассказывает Анатолий Егорович. — Иркутской области он не подчинялся, это было подсобное хозяйство треста «Лензолото». Приходила баржа, мы грузили на нее овощи и отправляли в Бодайбо. Оттуда получали новые комбайны, другую сельхозтехнику, дефицитные товары. Со всей округи к нам в Бирит ездили люди прикупить консервы, одежду, обувь.
В 1953 году на месте лагеря образовался совхоз. Место для занятий сельским хозяйством было неплохое. Речка Биритка спускалась в долину и делилась на две протоки. Получается, что в середине был остров. Там во времена существования зоны заключенные организовали небольшой огород: выращивали капусту, морковку, помидоры — в общем, самые разные овощи. Этот огород и стал основой для будущего совхоза.
— Совхоз в Бирите был непростым, — рассказывает Анатолий Егорович. — Иркутской области он не подчинялся, это было подсобное хозяйство треста «Лензолото». Приходила баржа, мы грузили на нее овощи и отправляли в Бодайбо. Оттуда получали новые комбайны, другую сельхозтехнику, дефицитные товары. Со всей округи к нам в Бирит ездили люди прикупить консервы, одежду, обувь.

О затоплении жителей Бирита предупредили заблаговременно, года за 3−4 до начала переселения, вспоминает Анатолий Егорович. Рубили в тайге дома, привозили в новый Бирит, устанавливали. Так появились улицы 1-я и 2-я Советские. А вот 3-я Советская — это дома, перенесенные со старого места.
— Когда Ангара пошла, она затопила лишь середину Бирита, улицы Армянская и Базарная, — рассказывает Любовь Ильинична, — а правая и левая стороны сохранились. На той стороне остался старый Бирит: все животноводство — коровники, телятник, маслозавод, фуражный двор, конный двор, зерносклад. Для работников фермы была построена целая улица жилых домов. На этой стороне — школа, больница со стационаром и родильным отделением, новые и перенесенные жилые дома.
Зимой люди переходили с одной стороны на другую по льду. В конце зимы на заливе устанавливали понтонный мост. За лето его порядком разбивало, и когда начинался учебный год, ходить по нему было просто опасно. Объезд находился далеко. Все это жителям Бирита порядком надоело, и в конце 70-х годов все они переехали на одну сторону залива, к школе и детскому саду.
— Понемногу та сторона опустела, — подводит итог второму переселению жителей Бирита Любовь Ильинична. — Остался там только зерносклад и изгородь с колючей проволокой, напоминающей о тех временах, когда тут находилась зона.
Фото, видео: Ольга Хинданова
— Когда Ангара пошла, она затопила лишь середину Бирита, улицы Армянская и Базарная, — рассказывает Любовь Ильинична, — а правая и левая стороны сохранились. На той стороне остался старый Бирит: все животноводство — коровники, телятник, маслозавод, фуражный двор, конный двор, зерносклад. Для работников фермы была построена целая улица жилых домов. На этой стороне — школа, больница со стационаром и родильным отделением, новые и перенесенные жилые дома.
Зимой люди переходили с одной стороны на другую по льду. В конце зимы на заливе устанавливали понтонный мост. За лето его порядком разбивало, и когда начинался учебный год, ходить по нему было просто опасно. Объезд находился далеко. Все это жителям Бирита порядком надоело, и в конце 70-х годов все они переехали на одну сторону залива, к школе и детскому саду.
— Понемногу та сторона опустела, — подводит итог второму переселению жителей Бирита Любовь Ильинична. — Остался там только зерносклад и изгородь с колючей проволокой, напоминающей о тех временах, когда тут находилась зона.
Фото, видео: Ольга Хинданова
Проект «Лица затопленных деревень. На Родине Валентина Распутина» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.