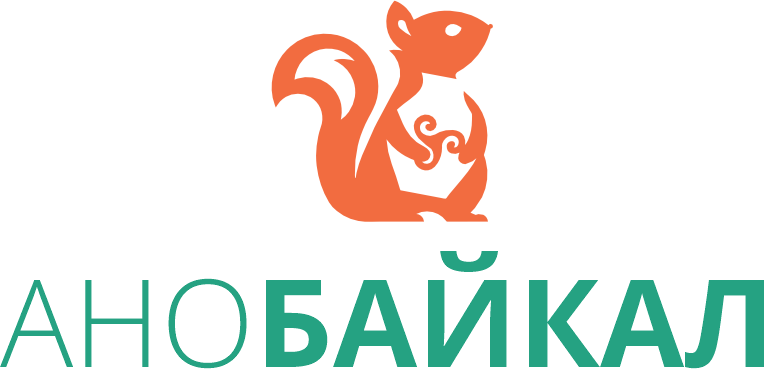Шестьдесят лет минуло с тех пор, как из-за строительства Братской ГЭС под воду ушли сотни деревень Иркутской области. Только официально под затопление водами будущего рукотворного моря попали более 16 тысяч дворов.
Проект «Лица затопленных деревень», разработанный автономной некоммерческой организацией «Байкал», посвящен людям, которые помнят, как под воду уходили их родовые места. В этом году журналисты работают на малой родине Валентина Распутина — в населенных пунктах на берегу Ангары в Усть-Удинском и Балаганском районах.
Проект «Лица затопленных деревень», разработанный автономной некоммерческой организацией «Байкал», посвящен людям, которые помнят, как под воду уходили их родовые места. В этом году журналисты работают на малой родине Валентина Распутина — в населенных пунктах на берегу Ангары в Усть-Удинском и Балаганском районах.
Испытание переездом
Судьбу родителей Людмилы Удовиченко не назовешь легкой. Отца, коренного балаганца, еще в детстве изувечила лошадь. Несмотря на проблемы со здоровьем, в военное время он стремился попасть на фронт, и его взяли работать на заготовки в Маньчжурию. Вернулся на малую родину он уже совсем взрослым, возмужавшим. Мать приехала в Балаганск из Подмосковья: во время войны, подростком, она осталась одна, работала на фабрике, а потом подалась в Сибирь.
«Мы, дети, о прошлом маму не расспрашивали. Отец просил ее не тревожить, поэтому до сих пор не знаю, откуда она и кем были ее родители. Жили мы дружно, по хозяйству помогала бабушка. Я только в первый класс пошла, когда родителям выпало новое испытание — переезд. Пришла новость о том, что старого Балаганска больше не будет, и потянулись люди кто куда, снимаясь с насиженных мест», — говорит Людмила Удовиченко.
«Мы, дети, о прошлом маму не расспрашивали. Отец просил ее не тревожить, поэтому до сих пор не знаю, откуда она и кем были ее родители. Жили мы дружно, по хозяйству помогала бабушка. Я только в первый класс пошла, когда родителям выпало новое испытание — переезд. Пришла новость о том, что старого Балаганска больше не будет, и потянулись люди кто куда, снимаясь с насиженных мест», — говорит Людмила Удовиченко.
Семья Людмилы Романовны перебралась в новый Балаганск. Переезд назначили на 25 мая — подгадывали к посадке картофеля. На новом месте, где еще не было обработанной пашни, нужно было первым делом подумать о предстоящей зиме.
«Хлеба в продаже сначала не было, сами стряпали. Бабушка замачивала вермишель, в распухшую массу добавляла дрожжи и стряпала из такого теста толстые блины. Это уж потом пекарню открыли, да какую! Даже иркутяне мешками покупали хлеб и увозили в город».
Тяжело пришлось поселенцам на новом месте. Для строительства соцобъектов в новом Балаганске открылся кирпичный завод, но частный сектор люди строили самостоятельно.
«При переезде сразу возникли желающие заработать, в тайге мужчины готовили на продажу срубы. Помню, что в 650 рублей обошелся наш сруб. Стопу поставили, а к ней пристроили перевезенную часть старой избушки. Отец учил меня конопатить щели мхом. В этом доме я живу до сих пор, крепкое строение вышло», — говорит героиня проекта.
Люди из старого Балаганска перебирались постепенно. Несколько лет тянулись по местным дорогам обозы со скарбом.
«Перекочевала наша семья, и мы тут же начали искать бывших соседей. К сожалению, многие знакомые перебрались в село Первомайское — тогда это был большой населенный пункт. Пока шло переселение, в Первомайское ходило грузотакси и мы ездили к подружкам проверять, как они устроились», — говорит Людмила Удовиченко.
«Хлеба в продаже сначала не было, сами стряпали. Бабушка замачивала вермишель, в распухшую массу добавляла дрожжи и стряпала из такого теста толстые блины. Это уж потом пекарню открыли, да какую! Даже иркутяне мешками покупали хлеб и увозили в город».
Тяжело пришлось поселенцам на новом месте. Для строительства соцобъектов в новом Балаганске открылся кирпичный завод, но частный сектор люди строили самостоятельно.
«При переезде сразу возникли желающие заработать, в тайге мужчины готовили на продажу срубы. Помню, что в 650 рублей обошелся наш сруб. Стопу поставили, а к ней пристроили перевезенную часть старой избушки. Отец учил меня конопатить щели мхом. В этом доме я живу до сих пор, крепкое строение вышло», — говорит героиня проекта.
Люди из старого Балаганска перебирались постепенно. Несколько лет тянулись по местным дорогам обозы со скарбом.
«Перекочевала наша семья, и мы тут же начали искать бывших соседей. К сожалению, многие знакомые перебрались в село Первомайское — тогда это был большой населенный пункт. Пока шло переселение, в Первомайское ходило грузотакси и мы ездили к подружкам проверять, как они устроились», — говорит Людмила Удовиченко.
Что стало с останками комсомольцев

На том же грузотакси ездили в старый Балаганск. Причина была сугубо бытовой. Первое время, пока бани еще не построили, многие специально добирались на прежнее место жительства, чтобы помыться. В одну из таких поездок маленькая Людмила стала свидетельницей исторического события.
«Была у нас братская могила погибших во времена колчаковщины комсомольцев. Их останки было решено перевезти на новое место. Как раз при мне их выкапывали. Страшно стало, бабушка, помню, велела не смотреть, но, конечно, я одним глазом подглядела. Мужчины, которые тела доставали, сразу ныряли в Ангару, отмывались. После на новом кладбище установили этим комсомольцам памятник, который стоит до сих пор. Что касается остальных могил, то многие пришлось оставить под водой. Захоронения перед затоплением зацементировали», — рассказывает Людмила Удовиченко.
«Была у нас братская могила погибших во времена колчаковщины комсомольцев. Их останки было решено перевезти на новое место. Как раз при мне их выкапывали. Страшно стало, бабушка, помню, велела не смотреть, но, конечно, я одним глазом подглядела. Мужчины, которые тела доставали, сразу ныряли в Ангару, отмывались. После на новом кладбище установили этим комсомольцам памятник, который стоит до сих пор. Что касается остальных могил, то многие пришлось оставить под водой. Захоронения перед затоплением зацементировали», — рассказывает Людмила Удовиченко.
Чем кормили в старой чайной
Жизнь населенных пунктов, стоящих на берегу Ангары, была неразрывно связана с рекой. Вот и на просьбу вспомнить старый Балаганск героиня проекта рассказала о пароходах, ходивших в те годы по Ангаре, и о старой чайной, где коротали время люди в ожидании парома.
«Брат часто болел, мы его возили в Иркутск, а добирались до областного центра как раз на пароходах. Их ходило три: колесные двухпалубные «Карл Маркс» и «Фридрих Энгельс» и маленькая «Бессарабия». Шли они медленно, несколько суток до Иркутска шлепали, зато народ успевал отдохнуть. На втором этаже была музыка, все танцевали, — говорит героиня проекта.
В чайной у причала стряпали хворост, наливали чай, были в меню и супы, и котлеты. Многие там питались, ожидая паром в соседнюю Малышовку.
После учебы в Улан-Удэ Людмила Романовна немного пожила в Бурятии, а затем вернулась на малую родину.
«Люди уходят, мало осталось в живых тех, кто помнит, каким был старый Балаганск. Жили мы с соседями всегда хорошо, помогали друг другу во всем. Помню, как во время учебы в Улан-Удэ я нашла земляков, так какое же это было счастье. Бабушка всегда говорила нам, что если вас обидят, сделают что-то плохое, то не нужно отвечать оскорблением, нужно это пережить внутри, не плодить дальше злобу. Думаю, что этот принцип – основа характера местных жителей», — говорит Людмилы Удовиченко.
Фото, видео: Ольга Хинданова
«Брат часто болел, мы его возили в Иркутск, а добирались до областного центра как раз на пароходах. Их ходило три: колесные двухпалубные «Карл Маркс» и «Фридрих Энгельс» и маленькая «Бессарабия». Шли они медленно, несколько суток до Иркутска шлепали, зато народ успевал отдохнуть. На втором этаже была музыка, все танцевали, — говорит героиня проекта.
В чайной у причала стряпали хворост, наливали чай, были в меню и супы, и котлеты. Многие там питались, ожидая паром в соседнюю Малышовку.
После учебы в Улан-Удэ Людмила Романовна немного пожила в Бурятии, а затем вернулась на малую родину.
«Люди уходят, мало осталось в живых тех, кто помнит, каким был старый Балаганск. Жили мы с соседями всегда хорошо, помогали друг другу во всем. Помню, как во время учебы в Улан-Удэ я нашла земляков, так какое же это было счастье. Бабушка всегда говорила нам, что если вас обидят, сделают что-то плохое, то не нужно отвечать оскорблением, нужно это пережить внутри, не плодить дальше злобу. Думаю, что этот принцип – основа характера местных жителей», — говорит Людмилы Удовиченко.
Фото, видео: Ольга Хинданова
Проект «Лица затопленных деревень. На Родине Валентина Распутина» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.