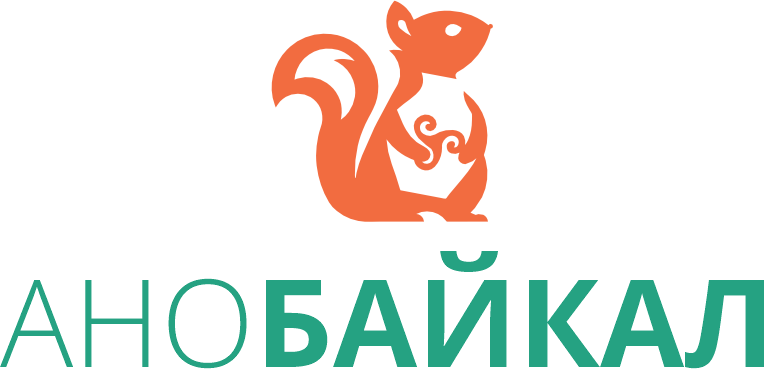Один из таких населенных пунктов – село Хадахан, которое находилось на острове Хангинский (на картах обычно обозначается как Осинский, другое название – Хадаханский). Остров располагался напротив впадения реки Оса в Ангару, имел в длину 22 километра, максимальную ширину – 4,5 километров.
После затопления жители Хадахана переехали на новое место – в урочище Шулуты, расположенное на высоком левом берегу Ангары. Здесь они образовали новый Хадахан. Один переселенцев – Леонид Терентьевич Маланов. На тот момент ему было 12 лет. Он вспоминает, что до затопления в Хадахане насчитывалось примерно 90 дворов. Причем, само село, говорит Маланов, было тогда совсем молодым.
— Наш Хадахан образовался где-то в двадцатых годах, – уверен старожил. – Я в пятом классе учился, когда переселение началось. Мы уже переехали, а я часто бегал на старое место, пока его ещё не затопило. Там было уже все чисто, дома убраны, но нижние венцы оставались. И я в углах находил серебряные монеты, которые туда при строительстве закладывали. Все монеты были 1921-24 годов. Я потом спрашивал стариков: а почему так? Неужели нашей деревне всего 40 лет? Мне рассказали, что раньше мы вразброс жили, в маленьких улусах, и лишь после революции нас согнали поближе друг к другу.

Практически все население было занято в сельском хозяйстве. Совсем еще юный Леня Маланов, в возрасте 7-8 лет уже вовсю косил сено. «Я чего оставалось? – говорит он. — Не пойдёшь на сенокос – сидишь дома один, пацаны все в поле работают».
Местная жизнь, рассказывает старожил, имела свои особенности. Например, на Большую землю можно было попасть только на пароме. Его приходилось ждать часами. В роли парома долгое время выступала большая лодка. Она цеплялась к тросу, который удерживали 10 других лодок. На пароме была будка рулевого. Он крутил штурвал и устанавливал лодку под таким углом, чтобы она за счет течения двигалась в ту или иную сторону. Конструкция, к слову сказать, достаточно распространенная. В дореволюционном Иркутске паром долгое время ходил по такому же принципу.
— Ангара была судоходной, и надо было успеть паром перевести с одного берега на другой, пока река была свободна, — рассказывает Маланов. — Пароход идет, гудит, предупреждает. По течению он быстро шёл. Не помню, чтобы наш паром с пароходом сталкивались. Трос отрывался – это было. Паром к Балаганску унесет, там его поймают, обратно притащат.
Про грядущее затопление в Хадахане стало известно за несколько лет, вспоминает старожил. Приезжали какие-то люди, производили замеры, высоко на склонах выставляли колышки. Говорили: до этих отметок вода дойдет. Но никто им не верил, конечно.
Однако переселяться все-таки пришлось. Новый поселок отстраивали на месте какой-то заброшенной деревни, которую, судя по всему, в 30-х годах раскулачили. От неё остался один дом, в котором жили пастухи бахтайского хозяйства.
— Мы – молодежь – радовались тому, что будем жить на новом месте, — вспоминает Леонид Маланов. – Нам обещали, что постоянно будет свет. На старом месте у нас дизель стоял, электричество давали нечасто. При этом приезжаем мы, например, в Бахтай, а там свет постоянно. Можно в любое время включить плитку или чайник. Не надо было самовар, как у нас в Хадахане, разводить. Мы бахтайцам завидовали и, конечно, нам так же жить хотелось.

Но далеко не все в Хадахане восприняли переселение позитивно. Пожилые люди плакали. Когда вода уже поднялась, некоторые садились на лодку, приплывали на место бывшего села и пытались разглядеть под водой свой бывший двор. Леонид Маланов хорошо помнит одного старика, водителя или механизатора. В его ограде оставались кабины старых машин, их ещё долго было видно под водой. Старик часто подходил на лодке на это место, смотрел на свои кабины, пока они окончательно не скрылись в толще воды.
Сейчас от некогда огромного острова осталось только несколько небольших островков с песчаным берегом, куда лишь залетают птицы, да иногда приезжают на лодках отдыхающие.
Проект «Лица затопленных деревень» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.